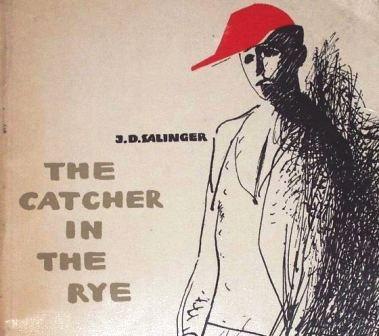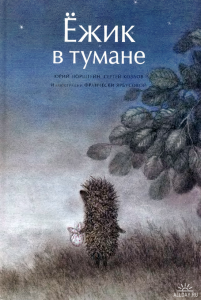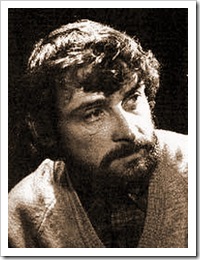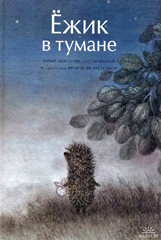|
|
“Весна”-201. Самый кошерный магнитофон “семидесятника”! У меня не было. Дорого… |
 |
|
Медаль |
 |
|
Майор ВВС США |
Я сейчас одну вещь расскажу, о которой вам никто не расскажет и которую вы нигде не прочитаете. Потому, что даже в мою голову эта мысль попала совершенно случайно. Но очень, очень давно – еще в 80-х годах прошлого века. И до сих пор хранится в оперативке, переваривается, формируется, ждет своей реализации… Ща поделюсь! 🙂
Итак, ранние 80-е. В те годы увлечение рок-музыкой стало носить поголовный характер, “Deep Purple” и “Black Sabbath” крутили на танцах даже в сельских клубах, кассетные магнитофоны “Весна” перестали быть редкостью, и той части молодежи, к которой относился и юный Сэр, срочно потребовалось искать увлечения поэкзотичней. Времена, когда мы были монопольными обладателями знаний о хард-роке, прошли. И задачу “эксклюзивных музыкальных вкусов” успешно выполнил джаз. Увлечение старым нью-орлеанским джазом стало отличительной, модной чертой “узкого круга”, в Москве появился “Арсенал” Козлова (это который “И Козел на саксе – фа-ва-ва-ва!!!”), в лексиконе юных вновь, как в 50-е, появились джазовые термины, выгодно отличавшие нас от массы соотечественников. Мы считали себя обладателями Тайного Знания, да… И вот как-то отправились на сейшен к другу на дачу. Вернее, на дачу родителей друга, своих дач у нас еще не было. Водки попить, к девчонкам поприставать, поумничать, повыпендриваццо. С утра, разгоняя вчерашние шлаки, отправились на речку. Кассетный магнитофон (“Весна”, все как положено!) с джазом – с собой. Нашли местечко поуютнее на берегу Вонючки местной, курим табак, валяемсо, шлаки выгоняем, джаз слушаем. И подходит к нам деревенкий пастух – погрызанный жизнью сморщенный затрапезный дедок с медалью “Наше дело правое!” на мятом пиджаке (вы не обращали внимания, что летом в провинции каждый второй пастух – непременно в пиджаке? В затрапезном, правда, но в пиджаке!). Просит спички, ибо свои отсырели. Даем высокомерно, нешто мы не люди… Дедок прикуривает, и заявляет — “Ребята, я посижу тут немного? Давно Сачмо не слышал…”
Мы реально офигели. Мы, самовлюбленные пижоны, тогда и понятия не имели, что Луи Армстронга в Америке по молодости лет называли “Сачмо”. Ни до этого деда, ни после, за всю свою жизнь я никогда не слышал, чтобы в нашем эфире Великого Луи кто-нибудь именовал его молодежной нью-орлеанской кличкой. Так называли его только американцы, и то не все. А только друзья по юности. Но я об этом узнал только через много лет после той встречи с “зачуханым пастухом”, когда стал изучать материалы и литературу. А тогда… Спросили, что дед имеет в виду, он нам пояснил, что говорит об Армстронге. Разумеется, мы тут же начали пытать, откуда деревенский пастух вот так сходу определил, что у нас играет. За вином смотались. И вот тут бы мне и рассказать вам сенсационную историю о деревенском джазовом фанате, о том, как за личиной простого, значит, труженика советского села скрывалась душа тонкого интеллигента и гения джаза, но фигу там. Все оказалось гораздо проще. Настолько просто, что мы даже разочаровались. Но на нашу историю (“Историю СССР”, в смысле) стали с тех пор смотреть немного иначе.
Конечно, никаким “стилягой” дед не был. “Дудочек” не носил, “по Бродвею с чувихами” не хилял, и с комсомольскими патрулями не дрался. Фанатом джаза тоже не был, “музыку на костях” не слушал, даже не знал, что это такое. Свои джазовые пристрастия никогда в жизни не отстаивал, потому что не знал, что их нужно отстаивать. Увы. Очень бы скрасили мой рассказ эти детали, но чего не было, того не было. Потому что было гораздо круче.
Для этого деда джаз не был ни “тайной буржуазной забавой”, ни “музыкой протеста против коммунистического режима”. Не был он и идиотским “эксклюзивным увлечением, шобы выпендриться”, как у нас. Он был частью его жизни. Органичной, неотъемлемой, естественной, как собственная нога. Или вот эта медаль на лацкане. Которая “Наше дело правое” — с георгиевской ленточкой на колодке и профилем любимого нашими предками людоеда.
“Я на фронт попал в сорок четвертом, летом” – рассказывал дед, заглядывая в заботливо наполненный стаканчик, — “Тогда как раз союзники “второй фронт” открыли. И сходу начали вещать для своих солдат на всех радиоволнах. И на каждой их станции – джаз, джаз, джаз… Нас тошнило от него первое время, честное слово! Слушать не могли. Но наших станций с музыкой вообще не было. Таких, чтобы на танковую рацию ловились. А американцы ловились… Конечно, мы радовались, когда наши артисты приезжали, с нашими песнями. Два раза было, приезжали, да. Но это два раза, а американцы круглые сутки работали”. К тому же танкистов часто навещала кинопередвижка с американскими фильмами. Помните “В бой идут одни “старики”? — “Там “Джордж из Динки-Джаза” привезли…”. Много тогда джазовой “американщины” показывали. На время наша страна забыла идеологические увещевания пролетарского писателя Горького о том, что “Джаз – это музыка толстых”. И люди стали воспринимать джаз, как музыку союзников по антигитлеровской коалиции. Нормальную веселую музыку, которую слушают наши друзья по оружию, те самые, которые помогают нам тушенкой, шоколадом “Милки Уэй” (по “лендлизу” в СССР тоннами шел именно “Милки Уэй”, если кто не знает) и негритянским джазом – радостной музыкой, которая напоминала о грядущем счастье мирной жизни. А в 1945-м году, после Победы, в Москве, в Большом театре, давали легендарную джазовую оперу “Порги и Бесс” Джорджа Гершвина. Гениальная “Summertime” из которой и по сей день считается самой продаваемой джазовой композицией. А ведь написана 75 лет назад… Именно в чопорном Большом театре при заполненном зале давали то, за что через 10 лет станут исключать из комсомола! Такая вот «политическая загогулина»…
Конечно, у костра они пели “Землянку” под гармонь и “Синенький скромный платочек”. Не джаз был музыкой нашей Победы, не надо понимать меня привратно. Не это я хочу сказать. Просто настоящий, породистый, стопроцентный, не испорченный попсятиной, стерильный и фундаментальный джаз не был для наших дедов диковинкой или чем-то необычным. Он был обыденной деталью их фронтового быта. То есть тем, чем никогда не был для нас, их неблагодарных и хилых потомков. Для нас джаз всегда был «чужой» музыкой, хоть и любимой и привлекательной, как машина богатого соседа. А для дедов джаз — свой в доску, как пистолет-пулемет Шпагина или банка тушенки.